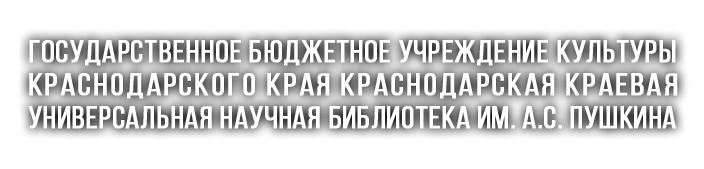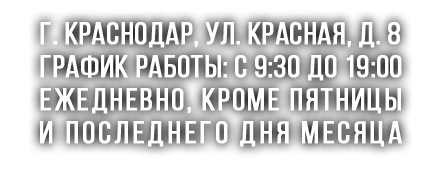- Главная
- Электронный каталог
- О библиотеке
- Услуги библиотеки
- Наши отделы
- Информационно-библиографический отдел
- Отдел краеведения
- Центр правовой информации и электронных ресурсов
- Отдел литературы по искусству
- Отдел литературы на иностранных языках
- Отдел городского абонемента
- Отдел читального зала
- Отдел нотных изданий и звукозаписей
- Отдел периодических изданий
- Отдел редкой книги
- Отдел электронной доставки документов и МБА
- Научно-методический отдел (НМО)
- Отдел основного книгохранения
- Переплётная мастерская
- Вакансии
- Документы
- Профессионалам
- Календари
- О Кубани
- Ресурсы
- Информация по культуре
- Новые поступления
|
Экскурсии по «Пушкинской карте» Консультации по вопросам Анкета опроса получателей услуг 

Вы можете оставить отзыв 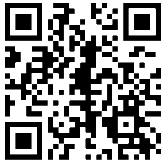
Анкета доступна по QR-коду, |
ЧАШКА ИЗ ДЕТСТВА У меня сломалась электромясорубка. На поиски старой ручной, отправилась в гараж. Туда мы убираем всё, что считаем лишним в доме. Со временем наш гараж превратился в склад вещей “до востребования”. На стеллажах вдоль стен, покрытые паутиной стоят банки с варениями, солениями, коробки с запчастями. Старые чемоданы без ручек забиты книгами, нотами, хозяйственной утварью. Кособоко привалена корзина с картошкой, сломанный велосипед, оконные рамы, детские санки и мешки с разными ненужными вещами. Сколько раз мы решительно собирались вычистить наши “авгиевы конюшни”, но всегда находилась причина, и всё оставалось на своих местах. Проследить путь мясорубки среди этого нагромождения было почти невозможно. Я отчаянно потрошила стоящий с краю, огромный мешок. Чего ж там только не было! Перечислять не берусь. Житейская фантазия каждого и наличие таких залежей вполне дорисуют мое изумление. Здесь было, пожалуй, все, но только не то, что мне надо. Расстроенная, я пыталась собрать хлам обратно. Совершенно случайно в моих руках оказалась молочная чашка. Чашка, из которой в далёком детстве меня по утрам потчевала добрая нянька Ксенька. Тряпкой смахнула пыль, и краски ожили. На боку чашки засиял взъерошенный петух, с хищно открытым клювом, красной шелковистой бородой и фантастически синим хвостом. Цепкая память воскресила забытые голоса, звуки, запахи, в сознании всплыли люди. Вспомнился тот большой злобный петух, который караулил меня в просторном дворе детства. Красуясь перед своими многочисленными курами, петух воинственно прохаживался по кромке высокого забора. Но стоило мне только отвернуться, как он стремительно и, шумно хлопая крыльями, слетал с забора. Вцепившись когтями в мою белую шапочку, нещадно долбил клювом. От страха я даже боялась кричать. Взрослые отгоняли разъярённую птицу и принимались меня утешать. Петух был соседский и с утра занимал свое место на заборе, высматривая жертву, то есть меня, и призывно горланил. Увидев в окно сидящего петуха, я отказывалась выходить к любимой песочнице. Тогда нянька Ксенька брала меня за руку и насильно выводила во двор. Угрожающе расхаживая по забору, петух недовольно косился кровавыми бусинками глаз. Нянька хватала из поленицы суковатую палку и грозно кричала: - Ах ты, японский городовой! Вот я тебя сейчас словлю и живьём скубсти буду, а потом, негодника, сварю и кину собакам, хай жрут! Согнав петуха, она тащила меня к игрушкам. Я насыпала песок в разноцветные формочки, пришлепывала ладошкой и переворачивала. Получались прекрасные пирожки, пряники, очень похожие на те, которые пекла нянька. Увлечённо играя, я забывала про обиды, слезы, весело напевала песню про Чибиса, что сидит у дороги, и не замечала, как моя Ксенька незаметно уходила. И тут, как с неба, камнем на голову, падал пернатый хищник. Петух наглел с каждым разом. К изумлению взрослых, он, словно, объявил на меня охоту. Длительные переговоры няньки с соседями оказались безрезультатными. Наконец, вмешался папа, которого соседи явно побаивались, после чего, хозяйка петуха, толстая неопрятная тетка, явилась к нам на перемирие. Как младенца, бережно держала на руках петуха-бандита, нежно называя его “петенькой -кормильцем”. Если честно, то петух на самом деле был роскошный. Это же надо, какая борода! А гребень-корона! Яркие перья. Петуха подносили ко мне и заставляли гладить, называя ласково «петенькой». Он же, восседая на руках хозяйки, по – прежнему, смотрел сурово и враждебно. Осмелев, я протягивала дрожащую ручонку. Петух резко мотал головой и начинал взъерошиваться, гневно клокотать, прикрывая кожистыми веками ярость в краснеющих глазах. Хлопотливая нянька насыпала мне в ладошку подсолнечные семечки. Но петух норовил клюнуть не вкусные семечки, а меня. Примирения не получалось. Взрослые предпринимали разные попытки, дабы подружить нас с петухом. Приносили кукурузные зёрна. Мама и нянька елейными голосами, неизвестно за какие-такие добродетели, подхваливали петуха. Притихший, он к чему- то прислушивался. Тогда хозяйка решила выпустить петуха из рук. Раскидав крылья, злобно выгибая шею, он взбил пыль когтями и, подпрыгнув, метко клюнул меня в голову. Я даже не успела прикрыться руками и испуганно от боли закричала. Сопровождаемый возмущенными криками присутствующих и моим рёвом, петух ловко взлетел на забор и был таков! После этого неудавшегося «перемирия» нам подкидывали дохлых кошек. Но пернатый бандит на заборе уже больше не появлялся. А я, напевая песенки, беззаботно играла в песочнице. Пекла пирожки и пряники, которые очень нравились моим куклам. Папа успокаивающе говорил, что в наш двор петух больше не прилетит. Я радовалась, обнимала и целовала папочку, с которым мы были большие друзья. * * * * * Наш дом был большой, кирпичный. У меня своя чудесная огромная комната. К моему большому сожалению, она называлась очень обидным для меня тогда словом - детская. Через застеклённые двери всегда было видно, чем я занималась. Такие же застеклённые двери в гостиной, столовой, а во всех других комнатах - деревянные. На большом подоконнике, посаженный нежными мамиными руками - фиалковый сад. В углу комнаты желтая деревянная кадка, подпоясанная железными обручами. В ней росла китайская роза, цветущая кружевными алыми цветами с нежно-желтой сердцевиной и бордовыми усиками. Мне они тогда казались сказочными. На полках лежали детские книжки, сидели куклы, стояли старинные статуэтки, а большой медведь Гоша и чуть меньше слон Юрик сидели на ковре у столика. Кроватка у меня была с четырьмя блестящими никилированными набалдашниками, вся в кружевных накидочках и вышитых подушечках. Перед сном ко мне заходила мама, рассказывала сказки, тихонько пела про серого волчка, который придет и схватит за бочок, а еще унесет в темный лесок, если я не буду спать. Этот волчок мне всегда казался очень добрым и смышленым и, засыпая, я совсем не боялась его, а от мамы таинственно пахло духами“ Красная Москва”. На стене висел роскошный, видимо, еще довоенный ковёр, на котором жёлто-бурая медведица забавно играла со своими детками- медвежатками. Мама, смеясь, говорила, что медведица это она, а маленькие мишки - мы с сестричкой. Прикидываясь спящей, я ежедневно ждала папиного возвращения с работы. И вот, наконец- то! Я услышала, как папа пришёл, и они с мамой в прихожей о чём-то взволнованно разговаривают. Затем раздались звуки приближающихся шагов к моей детской. Изо всех сил я зажмурила глаза. Дверь открылась, и папа на цыпочках подошел к кроватке, наклонился и поцеловал меня. Я тут же открыла глаза и счастливо засмеялась. - Что ты мне принес, папочка? Книжку с картинками, да? Папа погладил меня по голове теплой, сильной ладонью и наказал закрыть глаза, а открыть тогда, когда вернется и об этом мне скажет. Я честно выполнила условие. Как только он вернулся, по его команде, радостно распахнула глаза и увидела необыкновенно громадную живую рыбу со страшной зубатой пастью. Испугавшись, спросила: - А рыба может откусить палец?- Папа кивнул головой. - А руку? - он опять кивнул. Тихий ужас охватил меня. Набравшись сил и воздуха, я почти закричала: - А деток рыба кушает? - Конечно, - ответил усталый папа - если детки непослушные. Ведь это чудо-юдо рыба-кит! - Расскажи... – попросила я и открыла рот. Папа рассказывал о рыбе, о непослушных детках, которые не хотят спать. Сознание расплывалось, меня уже окружали безмолвные рыбы, большие и маленькие. Я пыталась спрятаться, но они на скорости мчались в мою сторону. Я закрывала ручонками лицо и эти страшилища проскакивали мимо, продолжая кружить, щелкать кривыми зубами. Одна, самая большая усатая и мордастая, остановилась рядом, грозно махнула плавниками, моргнула белыми глазами и зловеще раскрыла зубатую пасть, чтобы проглотить меня. Я закричала. Прибежавшая мама, тормошила, обнимала меня. Я слышала, как она кричала на растерявшегося папу. А я уже барахталась в озере, заполнившем всю комнату, где хозяйничали рыбы с пятнистыми колючими хвостами. Они нагло вплывали в дверь, врывались в окна, крутились вокруг китайской розы, над фиалковым цветником, кусали медведя Гошу и слона Юрика. Судорожно сжимаясь в комок, я поворачивалась к стенке, но с ковра, вместо доброй медведицы - мамы, скалилась свирепая рыба-кит. Ласковый медвежонок, с которым я дружила, превратился в уродливого краба, норовящего ухватить меня клешнёй за ухо. Приговаривая что-то ласковое, мама делала мне холодные компрессы, поила горьким лекарством, носила на руках, а лицо у нее было такое тревожное, как никогда раньше. Мне показалось, что, наверное, с кем-то случилось несчастье. Так оно и было. Я потеряла дар речи. Проснувшись поутру, я совсем перестала разговаривать. Каким только врачам меня не показывали, в какие клиники и больницы не возили! Всё тщетно. Понимаю, слышу, но не говорю. На вопросы отвечаю кивком головы: да или нет. Теперь я молча гуляла с нянькой, которая почему -то нарочито громко разговаривала со мной. Вцепившись в её добрую мягкую руку, проходила мимо играющих детей, а самой так хотелось подбежать к ним, потолкаться, попрыгать. Ко мне Ксенька никого не подпускала. Но дети прозорливы, жестоки. Они моментально догадались, что я немая и сразу дали мне кличку “немка”. Теперь, увидев меня, они корчили рожицы, издевательски смеялись, дурашливо гримасничали, показывали пальцами. Нянька бранила их, а меня, торопясь, уводила куда подальше. Взрослые были тоже бесцеремонны. Чувствовала себя очень униженной, когда слышала их бестактный вопрос: -А почему девочка не говорит? Узнав причину, кто искренне, а кто нет, ахали, охали, давали бесполезные советы. Равнодушно гладили по косицам или, того хуже, трепали за щечку. Ох, как я их ненавидела тогда! Вырывалась, мычала, плакала, тащила няньку прочь. Дома, особенно когда приходили гости, забивалась в самый дальний уголок, подальше от всех. Сверстники уже готовились идти в первый класс. Меня, после долгих раздумий, решили определить в специализированный интернат, находящийся в другом городе. * * * * * Родители, родившиеся до революции, понятно, были люди крещенные, но тогда, как и многие другие, это скрывали. Власти не церемонились с религией. Все иконы были спрятаны на чердак, куда подальше. Вместо Библии, Евангелия на полках стройными рядами красовались собрания сочинений революционных вождей и кремлёвских правителей. Книги были красиво изданы, в солидных кожаных переплетах с золоченными тисненными буквами. Эти книги никогда никто не брал с полки, не читал. Только нянька, что-то недовольно бормоча, вытирала с них пыль. Когда я подросла, то мне, в порядке поощрения, разрешили под присмотром старших листать эти “священные” книги. Помню сильное детское искушение пририсовать всем этим сердитым дядькам и тёткам усы, бороды, очки и рожки. Но, как бы догадываясь об этом, домашние сажали меня за чисто убранный стол, убирали все карандаши, ручки, чернила. От греха подальше. В просторной гостиной, где накрывался праздничный стол, на самом почётном месте в дорогих рамках висели портреты Ленина и Сталина. Смешно, но с противоположной стены, с ясным устремлённым взглядом в будущее, на них непримиримо смотрел великий композитор Петр Ильич Чайковский и заточенная в башню Новодевичьего монастыря, царевна Софья. Их портреты в скромных деревянных рамках. Царевне Софье я очень сочувствовала и жалела её. Нелепее соседства этих портретов, наверное, нельзя и придумать! Однако никто не обращал на это внимания. Сегодня в гараже хранится громадный портрет Ленина, подаренный папе, как делегату одного из съездов Коммунистической партии Советского Союза. Туда же потом вынесли с золотыми кистями красное знамя, которое в праздничные дни календаря аккуратно вывешивалось за балконом. Завёрнутое в целлофан оно стоит рядом с портретом. Символы минувшего века... Долгие годы, ждавшие своего часа на чердаке старинные иконы теперь висят в гостевой комнате. * * * * * Лето на Кубани по южному, жаркое, душное и шумное. Нянька Ксенька, втихую, чтобы никто не проведал, таскала меня по церквушкам, кладбищам, на всякие поминки. Там мы раздавали нищим и юродивым монетки, хлеб, яблоки. Нянька, чтобы никто не знал, пыталась лечить меня по- своему. Как мне казалось тогда, в тайне от родителей, в маленькой церкви с голубыми поблекшими куполами, она окрестила меня. Но точно я не знаю. Много позже, когда на мою голову, как из рога изобилия, посыпались беды, подруга повезла меня на окраину города к священнику, принять крещение. Ему честно призналась, что нянька вроде бы и крестила меня, когда то, давным-давно, но я в этом не уверена. На что мудрый отец Евгений ответил, что коли приключилась такая история, креститься второй раз, по незнанию, не грех. В последствии этот священник, светлейшей души человек, стал моим духовником и не мало помог молитвой и советом. Царствие ему небесное. А пока в церкви торжественно праздновался день святой Троицы. У нарядно одетых людей в руках цветы, зелень. Нянька и мне протянула букетик жёлтоглазых ромашек. Я старательно положила цветочки перед большой иконой в сверкающем окладе, около которой теплились огоньками тоненькие свечки. Священник в старенькой ризе, макая венчик в медный тазик, обходил прихожан, брызгая святой водой. Взрослые, чтобы окропить детей, старались выставить их вперед. Меня тоже подталкивали в спину, а я, боясь потерять няньку, постоянно оглядывалась. Ксенька сдёрнула с меня косыночку, подвела к грузному, с большой бородой и ласковыми глазами, священнику, на которого я смотрела с величайшим интересом во все глаза. Положив мне руку на голову, он внимательно выслушал няньку и что-то напевно говорил ей в ответ. Тетки, жаждующие припасть к руке священника, толпой жали сзади. Хныча, я носом уперлась в толстый упругий живот священника. Когда нянька велела поцеловать медный крест, я заревела. Истошно мыча, вырывалась из ее рук и, снуя в толпе, вырвалась наружу. Потом по узкой скособоченной улочке, мы шли через все кладбище к маленькому домишке, казавшемуся мне тогда избушкой на курьих ножках. В нем проживало много диковатых и худющих кошек разных мастей. А навстречу нам выползала настоящая Бабка Ежка. Она казалась мне, куда пострашнее сказочной. Вот не было только ступы и помела. В грязной ободранной комнате откуда-то появилась колченогая табуретка, на ней таз с водой. Бабка, крепкой костлявой рукой, схватила меня, как котёнка, за загривок и подтянула к себе. Наклонив мою голову к тазу, начала лить туда расплавленный воск. При этом, она убаюкивающе что-то приговаривала. Воск в воде скручивался в странные фигурки. Я ничего не понимала, но было интересно и любопытно. Я перестала хныкать и исподлобья наблюдала за чудесами. Старуха коричневыми узловатыми руками вытаскивала образовавшиеся в воде фигурки и, тыкая мокрыми пальцами - закорючками, что-то поясняла внимательно слушающей и кивающей головой няньке. Затем меня уложили на грязный диван, пахнущий кошками. Я, было, начала бунтовать, но бабка накрыла меня простыней. Вдруг сразу захотелось спать и я словно провалилась куда –то. Сквозь дрему слышала, как она глуховато бубнила, о чём-то прося Боженьку... Возвращались мы той же, петляющей среди могилок и крестов, дорожкой. Ксенька, как всегда, преувеличенно громко рассказывала всякие истории, кого-то нахваливала и говорила “мил человек”, кого-то добродушно поругивая, называла “злыдней и поганью”. Иногда останавливались возле чьих-то могилок, она крестилась, кланялась в пояс, молилась. Найдя удобную лавочку, мы мостились на ней, и я прижималась к няньке. Ксенька же, не торопясь, развязывала узелок с едой, доставала взятую из дома еду, она казалась необыкновенно вкусной, и мы поминали, как говорила нянька, всех добрых людей на свете. Кладбище утопало в зелени, из которой выглядывали кресты и верхушки памятников. В кронах деревьев, перекликаясь, шумели, тенькали, птицы. На душе было светло и спокойно. Уходить не хотелось. Но, однако, надо было вернуться домой до прихода родителей с работы, и я это прекрасно понимала. О-о-о!.. Если бы родители знали, где выгуливала меня моя незабвенная нянька! Такие вылазки у нас не были редкостью, и я их любила. Особенно нравилось ходить в гости к многочисленным убогим Ксенькиным подружкам, которым она умудрялась ещё и помогать. Там няньку принимали, словно знатную гостью. Да и отправлялись мы туда не с пустыми руками, несли кучу гостинцев. Мама отдавала ношенные платья, пиджаки, пальто, белье, старые кастрюли, сковородки, чашки, ложки и, конечно, еду. По тем временам это считалось для бедных людей, чуть ли не царским подношением. Сажали нас в центр стола, угощали горячей картошкой в мундирах, помидорами, огурцами, вяленой рыбой. Всё было сказочно вкусно! А главное - никто не заставлял мыть руки. Обжигаясь, все хватали горячую картошку, ели с кожурой, с сорваными с грядки зеленым луком и чесноком. Бабушки рвали вишню, черешню, сыпали мне в подол платья, приговаривая, чтобы “ела от пуза”. Я старалась. Все смеялись, шутили. И, самое главное, ко мне никто не приставал, никто тревожно и горестно не шептался за моей спиной. Обходились со мной, как с нормальным ребенком. А к няньке обращались на вы, по имени-отчеству, Ксения Никифоровна. С интересом я слушала незамысловатые россказни о целебных кореньях и травах, как и от чего они помогают. Из - под навеса хозяйка приносила душистые, провяленные, просушенные пучки трав, заворачивала в тряпицы и укладывала в нашу сумку. Отдельно, с большой осторожностью, нянька складывала причудливые, похожие на волшебных человечков, но, якобы, очень способствующие от сглазу, корешки. В разговорах бабушки жалились на детей, оставшихся жить на чужой стороне и не подающих о себе весточки. Сейчас уже и не упомню всех тихих душевных разговоров за дощатым столом под старой раскидистой грушей, у которой я так любила играть с маленькими пятнистыми, лопоухими кутятами. Иногда няньку просили в чем-то помочь. Она, не перебивая, внимательно выслушивала, ободряла ласковым словом, с большим значением добавляла: - Посоветуюсь с хозявой. Моё маленькое девчоночье сердчишко наполнялось гордостью за свою няньку и за своего папу “хозяву”. Чувствуя свою значимость, Ксенька рассуждала степенно, обстоятельно. Выпивая рюмочку, аппетитно причмокивала, а после второй заводила песню про стройную рябину, которая, через дорогу, никак не могла встретиться с красавцем-дубом. Вела она песню душевно, со слезой, с какой-то неизбывной, нерастраченной светлой печалью. Остальные, подперев головы руками, подпевали, утирали нахлынувшие слезы. Потом следовала другая песня, тоже грустная, про три сосны, что стоят у дальней муромской дороги. Мне песни не нравились. Я начинала мычать, дергать няньку за подол и тащить домой. Но она продолжала плакать, прижимала к себе, называла “несчастной хворой детиной, страдалицей по причине родительской партийности”. И, наконец, ей подносили “на посошок”. Она неторопливо выпивала, не закусывая, вытирала рот. Провожаемые старушками до самой развилки, мы отправлялись в обратный путь. Домой являлись в сумерках. Стараясь не шуметь, тихонечко, словно два заговорщика, крались через садовую калитку. Но бдительная мама ждала нас. Няньку тотчас закрывала в ее комнате, а папе говорила, что Ксения Никифоровна приболела. Меня же недовольно купала, переодевала и провожала в детскую спать. На следующий день, Ксенька вставала с первыми петухами, сердито гремела посудой, готовила завтрак, кормила всех и только лишь выразительно вздыхала. Когда уходил на работу папа, с достоинством выслушивала все, что выговаривала ей за вчерашнее мама, в сердцах называя пьянчужкой, которой нельзя доверить ребенка и грозилась расстаться с ней. Этого мое сердце выдержать было не в силах, и я с отчаянным рёвом вылезала из-под стола, где подслушивала и переживала за свою подругу. Мама хлопала дверью и оставляла нас в покое. И вот тут –то нянька давала себе волю! Зная, что я никому ничего не расскажу, она информировала меня по полной программе. Обо всём... Именно из ее сочных рассказов я узнала о несправедливо свергнутом царе Николашке не удержавшем власть, усатом грузине в Кремле, о моих партийных безбожных родителях. Доставалось даже вороватой продавщице из овощного магазина. Все вещи Ксенька, не стесняясь меня, называла своими именами, щедро сдабривая сказанное ненормативной лексикой. - А ты слушай и мотай на ус... – я и мотала. Мало тогда еще чего я понимала, оно, понимание, пришло потом, с годами. Если честно признаться и по сей день, вспоминаю правильные меткие характеристики няньки, ее народную мудрость. А пока я одобрительно кивала головой. Мне нравилось, что со мной Ксенька рассуждала, как со взрослой. Да и слушатель, надо заметить, у няньки был благодарный - немая девочка с двумя белыми бантиками. Особенно возмущалась и категорически была настроена Ксенька против того, что меня собирались отправить в другой город, в школу для глухонемых. Она боролась за меня, как могла. Регулярно водила к бабкам, молилась Богу, ставила свечки за мое выздоровление. Бесконечно узнавала и расспрашивала «знающих» людей о том, как помочь беде. Услышал ли Бог мою няньку, помогли ли её молитвы?.. Не знаю. Но чудо произошло. Я заговорила. А ведь к тому времени, даже самые опытные врачи ничего не могли поделать и отказались лечить меня. Это было двадцать шестого августа. В доме суета. Все готовились к папиному дню рождения. К вечеру, ожидалось много гостей. Уже с утра вкусно пахло пирогами. Нянька с румяной выпечкой зашла ко мне в комнату. Я её обняла и громко сказала: - Хочу пирожка!.. Она застыла на месте и с блаженной счастливой улыбкой смотрела на меня, часто –часто крестилась и не могла произнести ни звука. Теперь онемела она. Потом, схватив меня в охапку, побежала с радостным кликом к родителям. В доме начался неописуемый переполох. Я всегда любила и люблю этот теплый августовский день – папин день рождения. Надо так случиться, что и у моего мужа день рожденья выпадает на эту же дату последнего летнего месяца. В этот день у меня всегда происходит что- то знаменательное, хорошее, согревающее душу и сердце. * * * * * Когда повзрослела, то многое узнала о своей няньке. Моя Ксения Никифоровна, родилась на закате девятнадцатого века, в небольшой деревеньке под городом Лугой. Отец, плотник Никифор, был беспробудным пьяницей. Все заработанные деньги пропивал, бил по черной жену, которая, в конце- концов, померла. Остались маленькие и никому ненужные дети. С шести лет стала Ксюша ходить по людям, где постирает, где приберёт, где за лялькой присмотрит. До двенадцати лет прожила в своей деревне, прожила бы и дольше, если бы... В деревне появилась дородная, разбитная деваха, дальняя родственница, приехавшая погостить из Петербурга, где служила в кофейне на Васильевском острове у богатого немца. Устинья, так звали её, сразу приметила работящую, скромную Ксюшку и увезла с собой в громадный, шумный город. У немца в семье появилось прибавление, и требовалась нянька. Деревенская Ксюшка предстала перед хозяином в лаптях и стянутой на спине узлом, сквозь в заплатах, шале. Город, в который привезла ее родственница, она запомнила и полюбила на всю жизнь. Этот город, ее, Ксюшу, никогда ничего не видевшую и еще мало, что соображавшую в жизни поразил своей красотой и величием, научил относиться ко всему прекрасному с глубоким почитанием и трепетом. Когда ей в жизни встречалось что-то необычно красивое, то на мгновение моя Ксенька закрывала глаза, складывала свои небольшие натруженные руки, ладошка к ладошке, и восхищенно шептала: -Как в Ермитаже! Побегав по магазинам, не найдя нужного, недовольно чмокала губами и ворчала. - Чай не на Праксином дворе была. А, будучи рада удачным покупкам, непременно вспоминала “Алисеевский” магазин, в сотый раз рассказывала о диковинных заморских кушаньях в его зеркальных витринах. Ксенька, сама не подозревая того, стала моим первым гидом по Петербургу - Ленинграду. Именно она “прорубила” мне туда окно. Удивительно, что ни папа, учившийся в этом городе, ни мама, которая много читала мне о твореньи Петра, не пробудили того воображения, которое вызывали неприхотливые рассказы няньки. Я уже тогда мысленно жила в этом северном городе и, конечно, с юности мечтала побродить на воспетых поэтами и художниками берегах Невы. В дальнейшем я буду часто ездить в этот сказочный город по научным делам, в отпуск, знать все окрестности северной Пальмиры, но при этом всегда руководствоваться нянькиными воспоминаниями. Разумеется, всё это произойдёт много позже того, когда деревенская девчушка Ксюша оказалась в большом чужом городе. Сначала все складывалось у Ксюши вроде хорошо. Ухаживала за ребеночком хозяина, и тот был весьма доволен. Устинья же, пользуясь тем, что она, якобы, облагодетельствовала Ксюшку, стала валить на безропотную девчушку и свою работу. Устинья частенько уходила в загулы то с конюхом, то с кондитером, то с галантерейщиком. Сочной крестьянской любви Усьтиньи сполна доставалось и немцу - хозяину, смотревшему на ее отлучки сквозь пальцы. Хозяйка - фрау ревновала, устраивала скандальные сцены мужу, но тот только хитро щурился и теребил рыжую бородёнку. Одним словом, та Устька была еще та курва, как называла ее нянька. Многому научилась Ксюша в кофейне, стала смекать кое-что в жизни. К сожалению, всё хорошее быстро заканчивается. Немец, сколотив капитал, засобирался в далекую Баварию. Продал кофейню, каменный дом, оставил брюхатую Устьку и укатил со своей толстой фрау восвояси. Устька сняла комнатенку в сыром подвале. С ней поселилась и Ксюша, которой теперь пришлось ухаживать за родственницей, подённо бегать на заработки. Ребеночек у Устиньи родился слабый, болезненный и Господь, сжалившись, прибрал его. Устинья, с горя, принялась за старое. Пила и гуляла. Слава Богу, мир не без добрых людей. Пристроили Ксюшу служанкой в большой и нарядный господский дом. Барин оказался старый, брюзжащий, всегда чем-то недовольный. А барыня ничего, ласковая, не ругалась, отпускала в церковь, в воскресенье не заставляла работать. Ксюша как-то навестила Устинью, принесла ей в белой тряпочке гостинец. Та лежала в холодной грязной комнатенке, кашляла с кровью. Трясущимися руками развязала тряпочку, увидела пирожки и заплакала. Стала просить прощение у Ксюши, умоляла больше не приходить. В следующее воскресение Ксюша с узелком опять пришла в знакомый подвал, но Устиньи там уже не было. Бородатый дворник в холщовом фартуке и с железной бляхой на груди сказал, что нашли грешницу мертвой в канаве, увезли на дальнее кладбище для бродяг и бездомных. Ксюша оставила гостинцы дворнику и вернулась в господский дом. Барыня нахваливала сноровистую, расторопную и аккуратную прислугу. В доме все блистало чистотой и порядком. Часто приходили гости, в основном красивые, ухоженные подруги барыни. Они сплетничали, хихикали, пили кофий, удивленно посматривали на обслуживающую их по всем правилам девчонку. Её даже пытались переманить в другие дома. Хитроумная хозяйка, узнала об этом, прибавила наивной прислуге немного к жалованию. Уволила приходящего повара и все хозяйственные заботы свалились на Ксюшу. Всё бы ладно, да угрюмый барин стал приставать. Даже не стеснялся выйти из будуара в нижнем белье, косо поглядывая на деревенскую девчушку с лучистыми синими глазами. Однажды глухой ночью ворвался в ее крохотную комнатенку на первом этаже. Плотно закрыл дверь. Она даже не закричала. Обомлела, попыталась сопротивляться. Но он жестоко ударил, овладел ею, а, уходя, гадко усмехнулся, сказал, чтобы прибрала все, как нужно. Жизнь Ксюши превратилась в кошмар. Хозяин приходил по ночам, издевался. Как-то пересолила рагу, разбила блюдо, за что получила нагоняй от хозяйки. За разбитую посуду у нее высчитывали деньги. Плакала тайком, чтобы никто не видел, и что делать не знала. Посоветоваться было не с кем. С ней произошёл обморок. Вызванный врач констатировал беременность. Барыня всё поняла, но расставаться с хорошей работницей не хотела и стала уговаривать прислугу избавиться от ребеночка. Тяжкое это было время для Ксюши. Не пересказать... Через год она ушла из этого дома. Всю жизнь оплакивала своего не рожденного “дитёнка”, просила у Бога прощения, ставила свечки за упокой. Разные люди встречались на ее жизненном пути, но не озлобела душа. Совершенно случайно судьба привела ее в дом царского генерала, жившего возле собора Иоанна Кронштадтского. Нянька часто и подробно рассказывала мне об этом соборе. Тогда, в детстве, мне представлялось, что все церкви должны быть похожи именно на этот собор. * * * * * В один из летних дней петербургских каникул меня, как ветром, понесло в собор Иона Кронштадского. Погода была на редкость ясная, солнечная, но по северному, прохладная. Серый булыжник мостовой, одинокие деревца с чахлыми кронами, ажурные мостики через канал и застывшая величественная громада храма, возле которого я как-то растерялась, ощутила себя крохотной песчинкой. Купола, цвет собора... Всё точно, как рассказывала Ксенька. Это же надо? Повеяло детством, теплом добрых ладоней любимой няньки. Как в прострации, открыла тяжеленную, окованную дверь храма, переступила порог, и меня обдало тонким ароматом, прохладой и тишиной. По холодным гранитным плитам я подошла к алтарю. Вдруг услышала звуки, но никак не могла понять, звучит ли это музыка, музыка неземная, необыкновенно красивая или музыка звучит в моей душе. Остановилась у намоленных икон. Вокруг мерцали большие узорчатые лампады. Опустив голову, у всех все понимающих святых, просила прощения за тех, кого уже нет, просила о здравии близких, родных, о многом другом... В холодном простенке присела на лавку и стала рассматривать гранитный пол. Кое-где обновленный, он сильно потерт ногами прихожан. И тут я начала искать следы моей Ксеньки, гадая, у какой иконы она могла молиться? Наверное, припадала к образу святого Николая Угодника, потому что всегда наставляла меня: -Он и в поле, и в доме, и в пути, молись всегда ему, дитятко... А продолжающая звучать музыка, незаметно и плавно перелилась в одноголосное церковное песнопенье. Вслушалась. Кажется, пел ребёнок. Пошла на голос, приведший меня к конторке. За ней сидело безвозрастное существо и по старинному тропарю, удивительно чистым, звонким голоском, сольфеджировало. Существо это было женского пола, в черной косыночке обрамляющей лишенное всех земных тревог, сухонькое личико. Не от мира сего. Для себя решила, что это ангел - хранитель собора Иоанна Кронштадтского. Боясь спугнуть, повернула назад, но меня окликнули, протянули свечечку. Я поблагодарила, восхищаясь ангельским профессиональным голосом, и в ответ услышала: -Благодарю вас, я действительно консерваторка. Хотелось сказать, что я тоже выпускница консерватории, но, почувствовала неуместность подобных разговоров с этой просветленной душой в храме, и направилась к иконе Николая Угодника. Затеплила свечку за упокой души рабы божьей Ксении и опять вспомнила её судьбу. * * * * * В доме царского генерала Ксюше жилось неплохо. Ах, как же восторженно вспоминала она, что он, ее хозяин, якобы, говорил на многих языках, а прочел, ну, чуть ли ни все книги в мире, «пел оперы» и лучше всех играл на фортепианах, на скрипке. И еще на какой-то дудочке. Генерал всегда деликатно здоровался с прислугой, был обходителен, а на праздники давал денежку, на Пасху христосовался. Статный, красивый, лучше всех! - Мне никогда не бывало стыдно за мово генерала - счастливо приговаривала Ксенька. Только теперь я догадалась и поняла, кто был тайным героем нянькиных воздыханий. Рухнул царский престол. Генерала арестовали и поместили в подвал старинного особняка. Там допрашивали белых офицеров, потом группами уводили на расстрел. В этом особняке, в просторной, зеркальной комнате с темными гобеленами, куда приводили арестованных, стоял рояль. Генерал сел за рояль и играл печального Шопена. Музыка прекрасно звучала в этих стенах. За столом следователя сидел глава карательных органов “железный Феликс”. Он ценил искусство и заинтересовался пианистом. Надо сказать, что генерал был молод, имел польскую фамилию. Польская фамилия была и у “железного Феликса”, который скомандовал, чтобы всех задержанных, кроме вот этого генерала, перевели в другую комнату. При закрытых дверях, они проговорили добрый час, и по сей день никто не знает о чем. Протокол не велся. В итоге генерала отпустили. Он вернулся домой, переоделся в штатское. Новые власти дали несколько часов на сборы, чтобы генерал немедленно покинул северную столицу с предписанием на постоянное проживание и трудоустройство в южном приморском городе Одессе. Со слезами Ксенька собирала и провожала опальную семью. Ее хотели взять с собой, да места на неё не выделили. Она стояла на шумном перроне, глядела уходящему поезду вслед и глотала горькие слёзы. Наверное, все в жизни идет по кругу. Эта история имела свое продолжение. Надо же такому случиться?.. Моя старшая сестра училась в Одесской консерватории, слушала курс истории западной музыки у этого самого генерала-профессора. Зная об этом, я просила сестру, выбрать удобный момент, подойти и рассказать про нашу Ксеньку. Но, увы... Мой бдительный папа рассудил по другому, заметив при этом, что навряд ли, бывшему царскому генералу, а нынешнему знаменитому профессору, автору учебника будет приятно, если кто-то ковырнет его прошлое, от которого ему пришлось не по своей воле так далеко уехать. Моя смиренная сестра, конечно, послушалась папу. Через два года я поступила в ту же консерваторию но, генерал-профессор уже не работал. Я разыскала его адрес, но, к несчастью, он был парализован, медленно угасал на приморской даче в Аркадии. В консерватории все отзывались о нем, как о профессионале высочайшего класса, которого обожали студенты. Да, и ещё... За давностью лет запамятовала, какие пути привели нашу Ксеньку в дом другого генерала, но генерала уже Красной армии. Рассказывала Ксенька о нём с юмором и прибаутками. Этот генерал был сильно трусоват, страсть как всего боялся. Особенно телефонных звонков по вечерам и ночных в дверь. Дрожа всем телом, вскакивал, замирал по стойке смирно. Дверь шла открывать Ксенька, а он, выглядывая из-за ее плеча, крался следом. Рассказывая, с гордостью добавляла, что “мой бы” так не поступил, имея в виду царского генерала. “На цыпочках” жила эта семья, подводила итог нянька. Да и генерал он был не настоящий, а выдвиженец из простых солдат, чем-то крепко выслужившийся перед новой властью. Его жену Ксенька усмешливо называла придурковатой бабой, “кунычкой”, “падучей на духи и “дэколоны”. Жили они в бывшем графском особняке на улице Марата. Ксенька ежедневно бегала в булочную по улице Гороховой, где находился дом знаменитого Гришки Распутина. - Пробегу бывало мимо и перекрещусь, чтобы не принести с собой в дом нечистые силы - часто говаривала она. При этом мелко и долго крестилась. * * * * * В начале войны красный генерал эвакуировал семью на Урал. Осталась Ксения Никифоровна без крыши над головой, в холодном и голодном городе, одна. Вместе с другими разгребала после бомбежек завалы, из-под которых частенько доставали и живых людей. За это получала крохотный продовольственный паек. Потом зачислили её в группу санитарок, сопровождавших блокадных детей на Кавказ в город Майкоп. Там, в детском доме, она и работала до конца войны. После победы детдом расформировали. По её просьбе добрые люди несколько раз писали в Ленинград на улицу Марата, но ответа не последовало. Возвращаться было некуда и не к кому. Мама предложила Ксении Никифоровне перейти жить к нам, присматривать за моей тогда маленькой старшей сестричкой и вести домашнее хозяйство. Так Ксения Никифоровна вошла в нашу семью. Жила на равных. Когда родилась я, то полностью занималась мной. Я очень любила бывать в её комнатке, небольшой, уютной, всегда чистенькой. Там у окна, покрытый домотканым ковриком, стоял старенький сундучок. Когда- то, отправляя дочку в люди, его смастерил отец плотник Никифор. В нём, этом сундучке, была собрана вся ее жизнь в виде совершенно, как мне казалось тогда, ненужных предметов: картиночек, платочков, всяких побрякушек. На многочисленных старых фотографиях, я не могла найти Ксеньку, а если находила, то еле различимою с каким-нибудь ребенком на руках, закрывающем игрушкой её лицо. Погоны царского генерала в сундучке мирно уживались с погонами красного генерала. Были там и лайковые перчатки, доставшиеся от барыни. Несколько вышитых детских чепчиков, которые она частенько нежно перебирала, поглаживала, называя по именам бывших маленьких владельцев. Самая большая ценность сундучка - иконка Николая Угодника. Нянька всегда бережно доставала её, завернутую в белую тряпочку, крестилась, вздыхала. Зажигала свечку, читала долгую молитву и затем, также бережно завернув, укладывала обратно. О!.. Нянька Ксенька была величайший конспиратор! Библию, чтобы никто не догадался, заворачивала в партийную газету “Правда”. Наивно верила, что эта обертка спасет Божью книгу от злых рук и глаз. Действительно, в эпоху воинствующего атеизма за такую книгу привлекали к серьезному ответу. Удивительно, но с “Манифестом” Карла Маркса на немецком языке я впервые познакомилась благодаря няньке и ее сундучку, в котором тоже хранилась эта брошюра. Ксенька нехотя давала полистать эту книжицу. Сама же читать она не умела, но книги любила и уважала. Как гипноз, на меня действовала необычная кукла. Тряпичная, штопанная, с выдранным, а потом пришитым суровыми нитками глазом. Она не шла ни в какое сравнение с моими новыми, нарядными, раскрашенными, певуче кричащими “мама”, кокетливо закрывающими и открывающими глаза с длинными ресницами. Но мне очень хотелось поиграть именно с этой куклой. Кукла завораживала меня. Как теперь понимаю, рассказами о девочке Зое, дочке царского генерала, якобы получившей куклу из рук самой Императрицы. Тут, думаю, Ксенька чуть - чуть привирала... А может, оно так и было? А история такова. Маленькая Зоя, на благотворительном вечере, в присутствии императорских особ, лучше всех сплясала “Камаринскую”, за что и получила такой подарок. Я представляла эту девочку в бархатном платье, с распущенными длинными волосами, которые развевались в быстром танце, а, главное, по версии няньки, на ножках девочки были лаковые туфельки на каблучках, как у моей мамы. Я даже «видела», как Государыня в красивом платье, с высокой прической подходила к Зое, целовала ее в разрумянившуюся щечку и дарила куклу. На какое-то время неизвестная девочка Зоя стала кумиром моих детских мечтаний. Став постарше, я начала с интересом рассматривать открытки из сундучка. Рождественские, крещенские, пасхальные... С ангелочками, с целующимися голубками, с церковками, часовенками... Перевязанные красной лентой фотографии, с обнимающимися грудастыми тетями и усатыми дядями, лежали отдельной стопкой. Ксенька почему-то строго стучала указательным пальцем по столу и, вздыхая, поясняла мне, что это влюбленные. По большому секрету я рассказывала подружкам-первоклассницам об этих фотографиях и цитировала надписи: ”Люби меня, как я тебя”, ”Пусть волны жизненного моря не смоют память обо мне”... Когда эти “шедевры” читала самой няньке, тыкая пальцем в каждую букву, складывая в слоги и слова, то на ее простодушном круглом лице появлялись слёзы умиления. Она искренне ликовала, сияла от счастья, что я, ее недавно немая девочка, читаю вслух. В сундучке находилось и множество вырезок из журналов и газет. Кого там только не было! Портреты царя Николая, его семьи, тут же снимки игривых дамочек явно сомнительного поведения, которые жеманно, отставив мизинчик, приподнимали подол кружевного платья, демонстрируя толстые ножки в фильдеперсовых чулочках на подвязках. При этом раскрашенные дамочки натужно улыбались в тридцать два зуба и пучили круглые, похожие на поросячьи, глазки. Вперемежку с этими вырезками были портреты знаменитостей того времени: страшного дядьки Гришки Распутина, портрет революционера Кирова, которого Ксенька почему-то сильно уважала. Так что, вступая в жизнь, я имела своеобразный багаж знаний о героях той поры. Хранила она и разбитые фарфоровые статуэтки. Среди них запомнились изящная китаяночка с повреждённой причёской, прильнувшие друг к другу влюблённые, фигурка девочки с маленькой собачкой, у собачки была отбита одна лапка. Я очень жалела эту собачку. Царские серебряные монеты, каждый раз Ксенька пересчитывала, бережно укладывала в коричневый потёртый кошелёк, который завязывался таким же кожаным шнурком. В этом кошельке находилась и медаль с портретом царя Александра Второго, с гравированной надписью по кругу ”Память его незабвенна...” Коллекционеры надоедают мне назойливыми просьбами продать или подарить им этот кошелёк вместе с содержимым, но я не могу с ним расстаться. Так и по сей день, храню нянькины сокровища в шкатулке. На деньги Ксенька была совсем не падкая.. Живя у нас в доме, всегда возмущённо отказывалась их брать, дескать, не на “подённой работаю”. Тогда добрая, умная мама открыла Ксении Никифоровне сберегательную книжку, и каждый месяц вносила определённую сумму. Ксенька прознала про сберкассу, добродушно ворчала, а в голосе чувствовалось, что ей приятна забота “её хозяв”. - Вдруг надо будет, Никифоровна, на родину поехать, вот у вас всегда и денежки будут, на дорогу, на гостинцы. Да мало ли на что могут понадобиться. – Ласково увещевала мама. - Что? Стара уже стала, чай не нужна?.. - Никифоровна! Что вы говорите? Вы же мне, как мать родная. Мы вас все любим! На вас дом держится, всё хозяйство. А если с вами что и случится, то я вас как мать родную досмотрю. - Мама всплёскивала руками, обнимала Ксеньку, целовала в зардевшиеся щёки. А та смущённо поправляла передник с крылышками, как у первоклассницы, благодарно выслушивала маму и вдруг начинала суетиться. - Счастье, Фросюшка, не в деньгах... А за доброту благодарствую. Ой, заговорилась я тут с вами, а на плите борщ заждался... Побежала я... - торопливо говорила она. * * * * * Часто брожу по улочкам памяти. Теперь только поняла, что порой невольно и глупо мы обижаем именно тех, кого больше всего любим на свете. Хорошо, если во время спохватишься, опомнишься, повинишься. Тогда на душе светло и чисто. Совсем плохо, если заела гордыня, и ты забыла простое слово, простое и необыкновенное слово - прости. Если не успеешь сказать это заветное слово, на торном жизненном пути, то совесть острой занозой все равно напомнит об этом. Станет стыдно и больно. Из памяти не вычеркнешь ничего, как не старайся! Жизнь набело не перепишешь. В нашем доме шумно и весело отмечали очередной праздник красного календаря. Гостей много. Застолье в разгаре. Как всегда, кто-то из гостей, полюбопытствовал: - Что к празднику подготовила детвора? Моментально поставили стул и на него водрузили меня. Все дружно захлопали. С детским упоением и пафосом я звонко прочла стихотворение о Ленине. Подвыпившие гости хвалили за стихотворение и, просили сыграть на пианино и я, счастливая, играла только что выученную пьесу “Во саду ли, в огороде”. Старалась очень и, когда играла, от удовольствия высовывала кончик языка. Все опять хлопали и смеялись. Потом расспрашивали, как я учусь, с кем дружу, не дерусь ли на переменках, кого больше люблю: папу или маму? - Больше всех на свете я люблю Ленина! - громко продекламировала я, как учили нас в школе. Эффект был подобен фейерверку! - Ах, какая умница! Молодчина! Достойное поколение растим... -одобрительно и с пониманием восклицали гости. На добром лице Ксеньки, до этого светившемся за меня гордостью, появились слёзы и она, по - старчески сгорбившись, быстро засеменила в столовую. Счастливая от похвал, потряхивая накрахмаленными бантами, прыгая с ножки на ножку, я побежала за ней. Нянька сидела в тёмной комнате, плакала и причитала: - Да что же это такое, люди добрые? У ребёнка есть отец и мать... родная кровь... а она больше всех на свете любит чужого лысого дядьку. Это же надо? – Горько сокрушалась она. - Охо-хо... Ты что, сирота подзаборная?! А?.. Тебя ж мать родила, мучилась, души в тебе не чает. Родной отец дрожит над тобой... А ты, значит, какого –то дядьку любишь? Креста на вас всех нет! Срам, да и только! - И она в сердцах сплюнула на пол. - Ксенечка, родненькая, не плачь, ну, пожалуйста, прости меня. Я не хотела тебя обидеть! – Тыкалась я лицом в мягкие, тёплые ладони. - Нас так в школе учат, что больше всех надо любить Ленина, потому что он самый главный на земле. А маму с папой и тебя, я тоже люблю. Очень, очень...- тут мы обе заплакали в голос, и я забыла про гостей и праздник. Не сговариваясь, пошли в её комнатку. Ксенька посадила меня на кровать, вытерла фартуком, пахнущим ванилью, слёзы, расправила мое сшитое к празднику нарядное платьице, поцеловала. Достала из- под кровати бутылку со святой водой, набрав воды в рот, несколько раз побрызгала на меня и прочла молитвочку. И, опасливо поглядывая на дверь, осенила крестом. * * * * * Все девочки - первоклассницы мечтали быть санитарками, ходить с нарукавной белой повязкой, на которой был бы нашит красный крест, и с такой же через плечо сумочкой, набитой ватой, бинтами, лекарствами. От этой сумочки должны были обязательно исходить неистребимые запахи йода, зелёнки, красоваться пятна - все это придавало такую особую значимость её владелицам. Ещё бы! Да, я спала и видела себя санитаркой! Закрывая глаза, мечтала и представляла, как важно иду по улице, а прохожие с интересом глядят мне вслед. Дежурные, стоящие у дверей школы, беспрепятственно пропускают меня, и я шагаю по гулким коридорам, строго насупив брови, к своему классу. Но, самое захватывающее я видела впереди. Когда учительница подводила ребят к классу, я скурпулёзно начинала проверять их внешний вид. Смотрела воротнички, заглядывала в уши. О!.. За руками следила усиленно, особенно за руками тех мальчишек, с которыми была не в ладах, повздорила или... они мне нравились! Уже представляла, как кого -нибудь из них веду к грозному завучу, а мальчик, понурив голову, обречёно и послушно плетется сзади. По ночам снилось, как я подстригала ногти, обладателю роскошных ресниц, Юрке Фисенко, обрабатывала йодом порезанный палец ябеде Лариски Шалабаевой и, конечно, просто летала по всей школе, помогая старшей медсестре при осмотре учащихся. Утром, после завтрака, когда домашние разошлись по своим делам, за обеденным столом я осталась одна. В столовую, с кастрюлей в руках, зашла Ксенька, удивлённо посмотрела на меня и приостановилась. Я же, путешествуя ложкой по остывшей пшённой каше, отвела глаза в сторону, а потом кинулась к няньке и рассказала о своей самой- пресамой заветной мечте стать санитаркой. Слёзы стояли в моих глазах, голос предательски дрожал, так сильно я хотела быть санитаркой! Ксенька не перебивала, слушала внимательно. Присев на стул, обняла меня за плечи. - Да.... Это славное дело, помогать людям. Санитаркой-то школьной быть... - одобрила она и строго сказала: - Боженьку надо просить! А, ты, что? Забываешь о нём... Вот, скажи мне, когда ты последний раз молилась, а? Если бы каждый день молилась, да читала молитвочки, вот бы и была санитаркой. Я начала тут же канючить и уговаривать, чтобы она обучила меня всему сразу. - Нянечка, научи... ну, пожалуйста, миленькая... - умоляла я противным голоском. - “Отче наш” помнишь? Я ж тебя учила... - не повышая голоса, продолжала нянька - Захотелось санитаркой быть, так сразу вспомнила про Боженьку. Ишь, ты, какая! Загорелись говны... санитаркой быть! И сразу молиться решила. Это тебе не стихи про праздники красного календаря читать... тут дело сурьезное... Она повела меня в свою комнатку. Непрерывно крестясь и нашёптывая молитвочки, достала из сундучка образок Николая Угодника, зажгла свечечку, и у меня на душе вдруг стало так спокойно, так хорошо, забылись все тревоги. Мы стояли на коленках на старом шерстяном коврике и просили Чудотворца, чтобы я стала санитаркой. После этого, когда дома никого не было, мы регулярно молились за рабу Божью... санитарку Татьяну. Затем шли чаёвничать, заговорщицки обсуждая, когда, наконец, настанет день моего призвания. Сейчас уж не помню, назначали или выбирали в школе санитарок, помогли или нет наши тайные и долгие молитвы, но санитаркой я стала. А потом со мной приключилось, вот что... Как-то, придя из школы, с ужасом обнаружила, что потеряла октябрятский значок с изображением юного Ленина - Володи Ульянова. Даже не предать, какой испуг и страх охватили меня. Получившая этот значок под салютом всех вождей, под громкую барабанную дробь и торжественный клич горна, я вполне серьезно решила, что на этом моя жизнь закончилась, что завтра передо мной закроются двери школы. Что делать?! Тогда этот значок не продавался в киосках. Он вручался вступающему в октябрята со строгим назиданием, ни в коем случае его не терять, а беречь, как зеницу ока, потому что им могут воспользоваться нехорошие люди, например, шпионы, враги про которых мы даже разучили песню бдительности “Коричневая пуговка”. Конечно, в этот день мне было не до обеда. Ещё несколько раз я перетряхивала и вытряхивала школьный портфель, но значка там не было. О своём горе, тут же сообщила Ксеньке. Моё горе она приняла, как своё, близко к сердцу. Мы кинулись на поиски злополучного значка. Медленно ходили по улицам до самой школы, туда и назад, вглядывались в каждую канавку, кустик, внимательно просматривали заасфальтированную площадь, дорожки сквера и плакали навзрыд. Прохожие останавливались, участливо расспрашивали, сочувственно качали головами, что –то советовали. Ксенька, утирая платком мокрое красное лицо, объясняла, что мы ищем значок “кучерявого Ленина”, добавляя, что тепереча из-за него не видать девчушке школы. - Малая, а уже страдалица - причитала она и просила: -Мил человек, вдруг найдёшь, не посчитай за труд, занеси или как... вишь как убивается дитё... Помогите! А? Беда -то какая подкараулила... После безуспешных хождений по улицам, возвратились домой. Чтобы как- то меня успокоить, Ксенька достала святую воду, нашёптывая молитву, окропила меня. И мы опять отправились искать “кучерявого”. В поисках пропажи, я лазала в колючие кусты, там становилась на коленки, просила добренького Боженьку, обещая ему слушаться всех, никого не обижать, не врать, хорошо учиться, только бы он помог найти значок. Об этом просила и дерево платан, обнимая его пятнистый прохладный ствол, с могучей раскидистой кроной. Обращалась и к солнышку, весело сияющему на голубом безоблачном небе. Хотела попросить кошек на школьном дворе, которых мы с девчонками подкармливали и лечили, но не верила им, знала, что они хитрые и жадные. Поиски наши затягивались. Всё было тщетно! С нетерпением ждали, когда в школе закончит заниматься вторая смена. Побежали к сторожихе и к отзывчивым тёткам уборщицам. С их помощью обследовали и пересмотрели мусорные урны, заглядывали в закоулки школьных коридоров, в туалетные комнаты для девочек и, на всякий случай, для мальчиков. Даже осматривали и щупали матрацы в спортивном зале и понурые вернулись домой. Выслушав нас, мама обещала поговорить с учительницей. Я тут же панически представила, как стою перед всем классом, а Миланья Иосифовна, так звали мою первую учительницу, суровым голосом извещает всех учеников, что с потерей значка великого вождя мне не место в школе и в доблестных рядах юных ленинцев. Весь вечер ревела белугой и, не дождавшись, папы устало провалилась в глубокий сон. Снился кучерявый мальчик Ленин, у которого я, как школьная санитарка, проверяла руки. А они у него оказались не очень чистыми. Пожалев его, пропустила в класс и решила, что он руки обязательно помоет, не то, что Юрка Фисенко! Утром открыла глаза и первое, что увидела - свою школьную форму, отутюженную заботливой Ксенькой. И... аж подпрыгнула от радостной неожиданности. На платьице сиял значок с юным кучерявым вождём всех народов и стран! -Ур-а -а - а !..- босяком помчалась я к Ксеньке на кухню. Чуть не свалив её с ног, повисла на ней, крепко обнимала и смеялась.- Вот он, вот... Ксенечка, смотри какой! Правда, это Боженька нам помог? Правда? Скажи... - Кто ж ещё?! Конечно, Боженька! - говорила Ксенька, усаживая меня за стол завтракать. - Я молилась, а Боженька мне и подсказал, мол, в школьную столовую загляни. Я в школу. А ключи - то у буфетчицы. Сторожиха, душевная женщина, подсобила разыскать адресок. Уж ночь на дворе. Звёздочки, как лампочки светят. Пять кварталов пёхала, стучусь в дверь, появляется ейный сильно выпимший мужик и рявкает: спит, Верка! Ходют по ночам тут, ни сна, ни покоя... Я молить, просить, да всю историю горемышную талдычу ему. Пьяный, пьяный, а всё в толк взял, сожительку разбудил. Та зевает, глаза трёт и сразу, как обухом меня по голове. - Да куда ему деться, значку вашему! Нашла я его, почистила, да в стакан бросила, чтоб не пропал. Мы тоже с понятием! Пусть завтра забежит девчонка, я ей отдам. Чего переживать? До завтрева... Намаялась я сегодня, спать хочу. Ксенька гладила меня по голове, заплетала косички и довольно улыбалась. А улыбка у неё была, ну добрее всех на свете, а сама продолжала свой рассказ. - Тут уж ейный мужик вступился за меня, дескать, давай, Верка, сбегай, подмоги, вишь человек в переживании. Давай, давай!.. Ну, прибежали мы в школу и прямёхонько в столовку, а он, сердешный, чистый и кучерявенький, в стакане ждёт! Домой, как на крыльях, летела. - Ксенечка, ты самая лучшая, как я тебя люблю! - крепко обнимала и целовала я свою верную подругу. Вспоминаю теперь няньку, а на душе сразу становится теплей даже в самую ненастную пору моей жизни, когда, казалось, неудачи не давали вздохнуть, когда им было не видно ни конца, ни края... Память выдаёт и то, что старалась не вспоминать, а отодвинуть подальше в прошлое, чтобы забыть навсегда. Этих моментов, которых стыжусь, остерегаюсь, наперечёт. Всего - то несколько. Хочу покаяться и рассказать о некоторых. * * * * * Когда подросла, то начала стесняться Ксеньки. Перестала, как прежде, ходить с ней по гостям, в кино, парк, просто гулять. Стала смущаться её по - деревенски повязанного платочка, простой кофточки, одетой поверх ситцевой блузки, привычки поправлять мне косы, манеры громко разговаривать, сохранившейся с той поры, когда я потеряла речь. Потупив глаза, просила няньку не приходить в школу с пирожками, с самодельным кулёчком полным первой клубники, собранной для меня, или ждать после уроков с зонтиком, чтобы я не промокла под дождём, не простудилась. Дети, увидев Ксеньку, ехидно улыбались, а я прибегала домой и жаловалась, что, якобы, надо мной смеётся вся школа. Господи! Какая же я тогда была дурочка, как я могла ничего этого не понимать и не ценить?! Стоял солнечный и ясный день. Мы играли на школьном стадионе в волейбол. Вреднющая и всем известная ябеда Лариска, вдруг начала кривляться, корчиться, хихикать, показывая на меня пальцем. Сразу поняла, почему она дразнит меня, и бросила в неё мяч. К спортивной площадке, с узелком, не спеша, приближалась Ксенька. Меня охватила жуткая злость. Подбросив мяч, гоняла его по полю, расталкивая и сбивая с ног играющих, старалась не замечать никого: ни гадких улыбок, ехидных выкриков, ни... своей Ксеньки. Оказавшись на бровке поля, боданула головой в живот Юрку, пытавшегося остановить меня так сильно, что он вместе с мячом покатился по траве. Разгорячённая, со злыми слезами на глазах, подбежала к приветливо улыбающейся Ксеньке, вырвала из её рук беленький, опрятный узелок с домашними пирожками и, не понимая, что делаю, хотела швырнуть за железную ограду. Но что- то сдержало, остановило меня. Наверное, изумлённые синие – синие глаза няньки. Тогда, в торопях, я грубо сунула ей в руки узелок и стала тащить за рукав ситцевой кофты, выпроваживая за ворота стадиона. Дети прекратили игру, учитель физкультуры замер на месте со свистком во рту, а я продолжала, захлёбываясь недобрыми словами, подталкивать Ксеньку к выходу. Она так и осталась у меня в глазах стоять за воротами, поникшая, с потухшим взглядом, испуганным лицом... Сама же, как ни в чем не бывало, бегом бросилась назад на спортивную площадку. Учитель физкультуры остановил игру. Притихшие одноклассники, старательно обходя меня, побрели со стадиона. Я не знала, что делать... То ли присоединиться к ошарашенным и чувствующим тоже свою вину одноклассникам, или, сломя голову, бежать, догонять Ксеньку, просить прощение... И ещё... Меня принимали в пионеры. Ну, это было величайшее со-бы-ти-е! Наверное, с полгода в нашем доме царил праздничный переполох. Клятву “Как повяжешь галстук...”, мы разучивали всем классом, на всех уроках. Декламировали хором, вдвоём, по - одному. Ксенька так переживала за меня, что тоже выучила клятву назубок! Папа купил шёлковый пионерский галстук, который я, каждый день, кружась перед зеркалом, с восторгом примеряла. С вечера на стульчике, возле кровати красовалась наглаженная школьная форма с алым пионерским галстуком. В большой парадной вазе стоял букет сирени, приготовленный для торжества заботливой Ксенькой. Утром все домашние собирали меня в школу. Как же я волновалась, что забуду пионерскую клятву, тормошила всех, спрашивая, а не перепутают ли галстуки, мой- то шёлковый! Хотя знала, что галстуки заранее разложили в надписанные именные конверты. А девчонки в классе поговаривали, что могут, мол, и перепутать, повязать чужой. От страха думала, вдруг мой галстук достанется кому- то другому? Тогда Ксенька сказала, что пойдёт в школу и проследит. Услышав это, я выпучила глаза, замахала руками и закричала: - Нет! Не надо! Я сама буду приниматься в пионеры! Родители и сестра смеялись, успокаивали меня. Ксенька ласково пообещала не приходить в школу, потому что я уже взрослая и вручила мне душистый букет сирени. Нарядная и сияющая, под весёлые напутствия домашних я вышла со двора. Из школы нас повели шумной колонной через весь город на улицу Красную, к памятнику вождю. Громко играл оркестр, на солнце сверкали трубы, призывно кричал горн, гремели барабаны. Уступая нам, будущим пионерам, дорогу, останавливались автомашины, люди. Милиционеры и военные прикладывали руки к козырьку, с улыбкой отдавали честь. Я шагала крайней в первом ряду, сразу за оркестром. Вдруг увидела Ксеньку, суетливо прячущуюся, за прохожих. Мне стало очень обидно. Значит, она считает меня всё той же малышкой! Ага... Поглядела на одноклассников, но им не до меня и тут я решила перехитрить Ксеньку. Быстро поменялась в колонне местами с Лариской. И, как показалось мне, замысел удался. Довольная своей выходкой, наблюдала, как, потеряв меня из виду, нянька растерянно металась в толпе. У памятника великого вождя, нас построили в шеренги. Алели знамёна, серьёзные дядечки и тёточки произносили нудные речи, призывали нас быть честными, смелыми, трудолюбивыми и преданными великому делу построения коммунизма. Потом вся детвора, что было сил, во всю мощь орала пионерскую клятву. По одному мы выходили из строя к знамёнам, расшитым золотом. Под барабанный бой, нам повязывали галстуки, а мы, вкидывая руку в пионерском салюте, говорили: ”Всегда готов!” К гранитному пьедесталу великого вождя, я положила сирень, гордо ещё раз отсалютовала и увидела в толпе... Ксеньку, о которой забыла. Стояла она в белой косыночке, прикрывая ладошкой глаза от солнца, и счастливо улыбалась. Наши глаза встретились. Меня магнитом потянуло подбежать и прижаться к ней, вместе порадоваться, что я теперь взрослая, я - пионерка! Вместо этого я резко отвернулась, и быстро побежала за весёлой гурьбой одноклассников в развевающихся красных галстуках. А над площадью кружилась песня. По улице шагает весёлое звено, Никто вокруг не знает, куда идёт оно... Домой я вернулась легкомысленно счастливая. Расхаживая по комнатам, шумно двигала стульями, напевала. Делала всё, дабы обратить на себя внимание, что я пионерка. Приговаривая “пионер - всем ребятам пример!”, хлопала дверями. Не хотела снимать пионерский галстук, школьную форму, переодеваться в домашнее. Вопреки всем ожиданиям, мама встретила меня сухо. Я твёрдо была уверена, что Ксенька не могла пожаловаться на мою выходку. Мама всё поняла сама. Тогда я с нетерпением принялась ждать возвращения папы с работы. Пришел он поздно. Открыв дверь моей комнаты, долго смотрел на меня и, не проронив ни слова, ушел. Нянька была в своей комнате. Оттуда ни звука... В доме стояла нехорошая тишина. Тогда я, видимо, почувствовала себя родной сестрой, кумира пионеров тех лет, Павлика Морозова, как позже выяснилось, написавшего донос на родного отца. Сама у себя, восхищения, я уже не вызывала. Радость и всё торжество минувшего дня таяли с каждой вечерней минутой. Уткнувшись в подушку, лежала в своей комнате и не могла понять, почему поступила так, опять, обидев любящее меня большое и доброе сердце. На душе было очень тяжело и гадко. Кажется, совсем не хотела, чтобы страдала родная душа, всего лишь чуть- чуть слукавила, а получилось отвратительно... Что же со мной дальше -то будет? Я гадкая, противная девчонка! Я предательница... Пролетят годы, а я буду возвращаться, и возвращаться к этой мысли. Почему когда мы счастливы, благополучны, то не замечаем, как в нашем внимании, в нашем ласковом слове нуждаются близкие нам люди? Почему чаще всего страдают от нас те, кого мы любим больше всего на свете? Откуда возникает эта чёрствость сердца? Вопросы, вопросы... Они мучают меня, по сей день. Равнодушие и злоба, откровенный эгоизм вытесняют всё светлое, всё хорошее. Мы разучились простым и ясным поступкам: прощать ближнего своего. Даже за мелкие житейские обиды. А моя нянька Ксенька, Ксения Никифоровна, умела прощать, ободрить, приласкать, наверное, в этом и есть та самая нравственная сила, которой крепится каждый день бытия, да, пожалуй, и вся наша жизнь. Вы, конечно, догадываетесь, что и на этот раз, великодушная Ксенька простила меня, приголубила, и я тогда многое поняла своим детским сердчишком... * * * * * С годами Ксенька оставалась для меня самым умным, самым добрым советчиком. По - прежнему, в тяжкую минуту, мы открывали сундучок, доставали иконку Николая Угодника и заговорщицки тайно молились Она не знала своего дня рождения, поэтому поздравляли мы её в день святой Ксении Петербургской, шестого февраля. Пекли пироги, каждый готовил свой подарок. Больше всех хлопотала сама именинница. В этот день она словно светилась радостью. Мы по- семейному, преподносили ей подарки, родители поднимали рюмку за ее здоровье мы с сестрой крюшон, смеялись, шутили. На другой день, принарядившись, захватив короб пирогов, ватрушек, разных закусок, положив красноголовую бутылочку московской водочки, она отправлялась к подружкам, живущим за старым кладбищем. Теперь нянька не брала меня с собой. Я уже повзрослела. Возвращалась она поздно, тоже с подарками. Как говорила мама, под “крепким шафе”. Наутро рассказывала о своём похождении, о том, что ещё жива Бабка- Ёжка, та самая колдунья, которая спасала меня от немоты. Передавала приветы и поклоны от неё, от своих подружек. Живы были и кошки... Когда я готовилась поступать в музыкальное училище, Ксенька, наконец –то, вознамерилась погостить на родине, поклониться могилкам сродников. Сначала мы её отговаривали от поездки, потому что далека дорога, а здоровье уже не то. Затем согласились, стали помогать в сборах. Мама ходила за билетом на вокзал, папа инструктировал, как вести себя с посторонними людьми в поезде, как телеграфировать, если что срочно понадобится. Когда настал час отъезда, все погрустнели. Никто из нас не мог и подумать, что расстаёмся навсегда. Она уехала, как растаяло в солнечном мареве лёгкое летнее облачко. Ни звука, ни следа... Мама писала многочисленные письма, запросы, ответов не было. Папа через свои служебные каналы, адресный стол и милицию города Луги пытался разыскать Ксению Никифоровну. Ему сообщили, что ни в городе Луга, ни в деревне Малые Опёнки такая гражданка не появлялась и не значится. Предполагали разное, что ограбили её в дальнем поезде душегубы, может, умерла в чужой стороне. Всей семьёй тяжело переживали загадочное исчезновение нашей Ксении Никифоровны. И ждали, ждали... Прислушивались к стуку калитки, к шороху шагов. Долго ещё верили, что она появится в своей белой косыночке и наш дом снова огласится её весёлым неунывающим говорком. * * * * * Каждый год день именин Ксении Никифоровны я начинаю молитвою. Если бываю в Санкт- Петербурге, обязательно иду на Смоленское кладбище, в церковь святой Ксении Петербургской. Ставлю свечку на помин души рабы божьей Ксении Никифоровны, желаю ей царства небесного. В маленькой невзрачной церквушке всегда густо народа. Зажигаю свечечку, пишу святой наивные, полные надежды записочки. Долго стою в тесноте, в толкотне, размышляя о превратностях жизни. Выхожу на крепкий февральский мороз, раздаю нищим, как мы делали это с Ксенькой, когда я была маленькой, конфеты, пряники... А губы мои просительно шепчут. - Помолитесь тепло за рабу Божью Ксению Никифоровну... Иду мимо нищих, юродивых и вслух, думаю: - Господи, что есть наша жизнь... А Ксенькину чашку с яростно взъерошенным краснобородым, синехвостым петухом, хищно раскрывшим клюв и воинственно выставившим когтистую лапу, мой мудрый муж поставил за толстое стекло старинного маминого буфета. Чашка в тёмных морщинках трещин, по краю кое - где зазубринки от сколов. Но рисунок петуха свеж, ярок, словно художник только что отложил кисть. Когда открываю буфет, то всякий раз беру эту аляписто раскрашенную старую чашку в руки. Теперь взъерошенный петух не кажется таким уж злобным, грозным, как в далёком детстве. Это просто нарядная, пританцовывающая и жизнерадостно горланистая птица из далёкой полузабытой сказки, из прекрасной страны моего детства... - Ах, ты, петя, петушок- золотой гребешок, масляна головушка, шёлкова бородушка... |